Шли мы до этого места в тайге два часа, а то и чуть побольше. Дорога – и во сне такая не всегда привидится: топи, лужи, перемоины, валуны, а местами – гнилая лежнёвка. Здесь когда-то была лесопилка: тут же заготавливали лес. И тут же его распускали на всевозможный пиломатериал. Лет двадцать тому, как окружные ельники иссякли и, конечно же, закрыли лесопилку: перевезли на другое, лесистое местечко пилораму. Только сторож, охранявший лесораму, и пиломатериал, а попутно – и тайгу от браконьеров и лесных пожаров, — только он, Филипп Пименович Мамонов, никуда не переехал, остался «довековывать свой век» в этой глуши-вольготности.
— Здравствуйте, товарищ Мамонов! – наигранно, потрясая руку сторожу, приветствовал Филиппа Пименовича мой добровольный попутчик-охотовед и рыбнадзор (бог в двух лицах: никто не идёт в рыбнадзоры, колготы много) Виктор Жарынский. «Не Виктор, а Виктор, ударяйте на последний слог», — предупредил он меня при знакомстве.
— Здравствуйте, господин Жарынский.
— Что это вы так: господин? Одичали, что ли? Мы к вам рябинкой пожаловали, за той, за крупной, как её там, а – бузинолистная! Слыхать, что тут, на бывшей пилораме, её нынче хоть гребком греби. Медведи вон, и те перекочевали со всего Камышового хребта. Вкусна эта рябина, и крупная. Что твоя сливка-дикарёк, — это он меня просвещал.
— За господина не обижайтесь, извиняйте, а за товарища – я тоже не буду.
— Но ведь «товарищ» — это общее слово, ходовое.
— Вот именно, а я – Филипп Пименович, знаешь, а выкобениваешься, Виктор-на-Лапках!
— Вы уже сразу и обзываться пошли, своей дурацкой, данной вами мне, кличкой. Что за слово: Виктор, да ещё на – Лапках! Медведь, я что ли?
— Он самый, а кто же ты, раз в инспектора пошёл?
— Медведь – скорее вы будете, в трущобе маетесь, а я – в городе.
— Ну да, ну да, так оно и есть, а то как же, а я что говорю – на-Лапках! Значит, на рябину потянуло? Так, так, есть рябина, как не быть. Пошли?
— Сходу?
— А что тянуть, что рассиживаться, разносолов у меня для вас не припасено, а за чем пришли, то и покажу.
Он выдернул из крепкого ещё пня небольшой топорик с просмоленным топорищем, сунул его за голявку сапога и направился, не оглянувшись, в сторону пологой сопки. Нечего делать, мы – за ним. Хотя признаться, ноги мои просили передышки, да я думаю, и Виктор от этого вряд ли отказался бы. Шёл Мамонов споро, слегка подпрыгивал, а может быть, припадал, тогда я так и не понял. Это потом уже мне стало известно, что он инвалид войны, что правая нога его, после госпитальной фронтовой операции, стала на пять сантиметров короче левой. Мы еле поспевали за ним. Запыхались, но не отстали. Мамонов остановился, молча показал на усеянные крупной ягодой кусты рябины, а сам трусцой сбежал с дороги и скрылся в разнолесья и травы. Я подумал, приспичило старику…
В какие-то минуты мы набили заплечные кузова гроздьями бузинолистной, но Мамонов всё не появлялся. Виктор несколько раз негромко звал его, но тщетно. Я накинулся на придорожную голубику. Виктор тоже стал клевать её: сорвёт ягодку, помусолит в пальцах и – в рот! Стало смеркаться. Мамонова всё не было. Мы стали кричать его в две глотки. Виктор, тот даже оглушительно свистел, заложив четыре пальца в рот. Безрезультатно!
— Пойдём сами, он, наверное, что-то интересное отыскал, вот и таится.
— Как-то нехорошо уходить, а вдруг с ним беда какая…
— Да, это – да, но ведь уже темно.
— Подождём ещё полчасика, а потом пойдём искать.
— Ты что, брат, где же мы его в этих дебрях поймаем, это бесполезняк, уж лучше тут заночуем. Его, избави бог, не кондрат ли хватанул, сердцем он давненько жалуется, да я этому не верил, бегать-то он горазд, нас упарил.
— Сердце – дело такое, может и бегать, и прыгать и…
Я недоговорил – рядом раздался смешок! Мамонов!
— Мы уже решили, что вас медведь в гости пригласил, — выговаривал Мамонову Виктор.
— А что тут дивного, и такое могло случится, — равнодушно проворчал Мамонов. – Стемнело как быстро. Да ничто, добежим, по вечерку, ночевать, небось, у меня собираетесь? Рассую вас по углам, хата моя, что горница, и с богом, да и с людьми не спорница.
И ко мне:
— Подумали, что дед Мамон – язва сибирская? Не отпирайтесь, да вам, знать, и Виктор-на-Лапках напел про меня всякого разного. Я ведь и его бродягу люблю, а что работа мне его собачья не по душе, так это – моё дело.
К Виктору:
— Нравится – работай, какой вопрос!
Он подхватил полуведёрный бидончик. И командирским голосом приказал:
— Следуйте за мной!
— Что это у вас в бидоне – рябина? Черника? Голубика?
— Много будешь знать, скоро состаришься, товарищ Жарынский… Поехали…
И старик рванул с места в карьер! Мы затрусили сзади. Мамонов, как мне показалось, только сильней стал припадать на больную ногу. Это было заметно по бидону, который то и дело чиркал на буграх дороги. Добежали… Дед зажёг керосиновую лампу-десятилинейку, и в хате стало светло, как днём. Потом он поставил самовар: пузатый такой, медный, с медалями на боках. Я уже и забыл, когда видел такие, город их повывел: где возьмёшь древесного уголька, если в дому всё на электричестве. Мы уселись за стол.
— Я люблю чай из больших кружек, а вы? Вот и ладно, что согласны. Заварка у меня – только лесная: травы, прутики, корешки. Пойдёт? Пойдёт!
Он поставил на стол литровые кружки, бережно перенёс с пола самовар и торжественно водрузил по правую руку бидон.
— А знаете, как я его прозвище угадал-придумал? Стучится он как-то ко мне, вот в эту дверь, я спрашиваю: «Кто?» А он: «Кто, кто? Открывай, Мамон». Меня обида взяла: ах ты, думаю, «кто-кто, Виктор ты на-Лапках, вот ты кто, и сказал ему так! Заерепенился, помню, урослив дюже ты, братец Викторушко.
Он артистично откинул крышку бидона, и оттуда пахнуло таким ароматом, что моя голова закружилась от сладкого воздуха. «Мёд! Целый бидон мёду в сотах. Откуда?» Мы с Виктором недоумённо переглянулись.
— Это подарок от медведя, хитро подмигнул дед. – Угощайтесь, не сомневайтесь.
— Что у вас пасека там? – показал я рукой в сторону, откуда мы вернулись.
— Никакой пасеки: там – огромный тополь с дуплом, а позапрошлым летом привился на дупло рой, сбежал у кого-то, должно быть, совхозный, но закон неписаный таков: не укараулил роёк – пиши пропало, пчёл не кольцуют и никаких меток на них не ставят. А семья сильная – фунтов десять весом. Теперь он – мой, я всё там по уму сделал, дупло расширил, леток заузил, чтобы мыши не забрались, и от медведя защитил: навесил перед летком, весь в острых гвоздях, чурбан-маятник: медведь его лапой в сторону, а чурбан откачнётся, да зверю по морде, и тот с рёвом на землю, в кровь исколется, а медку – тю-тю. Я в этом деле петрю знатно – у меня дед в башкирских лесах бортничал, ну я – около него! Давно это было, а дедову науку не забыл. Ешьте, ешьте, чего жалеть, у меня под полом, в подвале целая кадка, засахаренного, для зимы приготовил. Обожаю чай с медком. А этот из осеннего взятка, аромат есть, а пользительность в нём не та, что в июльском, — тот из всех цветов взят. А
это – я не ради вас подчистил, а так получилось, что надо было на зиму пчёлок обустроить. Так что – кушайте на здоровье. И не думайте, что из-за вас клумота!
— Зачем вы так говорите – для нас же старались.
— Ты, Виктор, свои мысли мне не примывай. Что ты за шишка такая, чтобы…
— Не для меня, а для гостя…
Мамонов это уточнение Жарынского пропустил мимо ушей, и всё подкладывал на наши тарелочки чарочек – так он звал соты. Глядя куда-то в даль, в тёмное лесное безмолвие (окно в избе широкое, без занавески. Он нет-нет да и пристально вглядывался в мои глаза и балагурил вроде для одного себя:
— Беленькие чарочки – самые вкусные, их можно глотать, они – целина незасеванная. Добро – пчёлы, добро – мёд, а с плохих – и спрос плох…
Спали мы после такого чая как убитые. Встали бодрыми и притихшими. Мёд!..
©Евгений Лебков
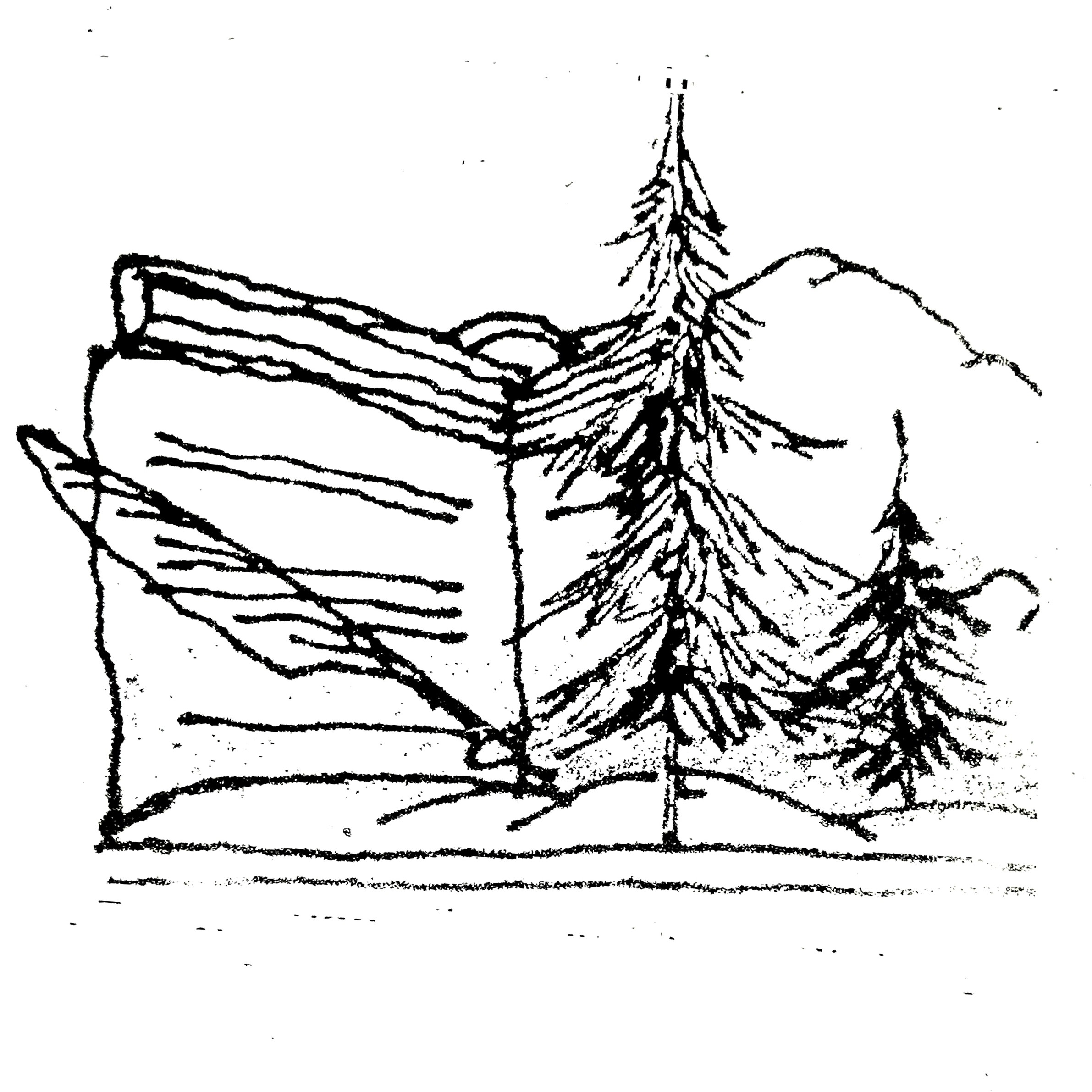


Свежие комментарии